Рыба
Кусочек записей о детстве моей мамы и отца. Это книга «Принять нельзя отказаться», которую я пишу после смерти моего брата.
Немного урезанная аудиозапись
«Ты не понимаешь, она раздала рыбу! Это напрочь разрушило ее карму» — она не представляла, насколько и как я это себе «представляю».
Крепкий, побелённый известью, дедов дом, перед которым огороженный крашенным зелёной краской «шнахетником» «палисадник», такие-же ворота, с поперечной балкой, закрывающиеся на большой металлический болт. С войны в его внешнем облике вряд-ли что-то изменилось, разве что прибавилось слоев побелки, да время от времени вместо вывалившейся из щелей между брёвнами смеси глины с рубленой соломой появляются бурые «подмазки», которые в свободную минуту новая жена деда подмазывает лубяным квачем, обмокнутым в раствор извести.
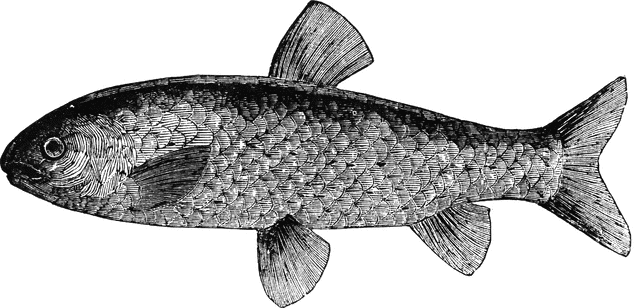
Семья во время войны жила трудами «старого дедушки», одного из трёх оставшихся в деревне «тягловых» мужиков, по возрасту или по брони не мобилизованными на фронт. Один в кузнице чинил и сваривал всякую разваливающуюся металическую оснастку, другой обслуживал редкие механизмы, вроде пресса, давившего черное, как нефть, масло из рыжика, (навесные плуги, грабли, сеялки и подборщики). Старый дед стоял особняком. Были еще председатель, счетовод и переменное число прикомандирванных «уполномоченных», выполнявших разные функции надзора, досмотра и учета налогов.
У старого деда был редкий дар привезённый с Рурских шахт Эльзаса и Лотарингии — он умел, не говоря ни слова, отказываться от всяких сомнительных инициатив, вроде колхоза или работы в «бригаде». Он был гениальным рыбаком и это позволяло ему молча посылать вдаль любое предложение о работе за трудодни. Председатель не трогал его исключительно по причине, что он в одиночку выполнял план по сдаче рыбы государству, который до войны выполняла целая рыболовецкая артель. Старый дед брал с собой свою старую бабку, они уходили пешком на озеро. А в конце недели председатель отправлял туда несколько подвод, вывозивших мешки с карасями, размером «по три на ведро».
Кто там учтёт, что и сколько дед принесёт ночью домой с рыбалки. Карасей и язей солили, вялили досуха в русской печи про запас, на зиму. Бабка, вымотавшаяся в коровнике до нельзя, с утра уже не мгла возиться с принесенной дедом в темноте свежей рыбой. Поэтому засветло разделывала рыбин исключительно топором. Отсекала брюшину одним ударом, вытаскивала руками внутренности. Полуразделанную рыбу складывала в мешок перекладывая рваной у забора крапивой, и давала маме и её сестре «задание» — после школы почистить чешую, помыть и пересыпать солью.
Зоя, старшая, оказывалась всегда хитрее: ссылаясь а всякие хвори, рези, боли валилась после уроков как мешок, поэтому дневное «задание» приходилось выполнять младшей, маме. Иначе рыба на жаре стухнет, а попадёт за это именно ей. Ведь от чего-то все безоговорочно верили в хвори и немощь старшей и не признавали болезни и усталость младшей. И вот, сидя над мешком с поротой рыбой с самодельным тяжеленным ножом «косачём» с закрученной улиткой металлической ручкой, она до прихода бабушки вытаскивает одну за одной вырывающиеся из рук сопливые туши карасей, шлепает их на колоду, оскребает летящую во все стороны чешую, обмывает кое-как в ведре с мутной водой и бросает в кадушку для засолки. После трёх-четырех рыб она отворачивает рогожу мешка с солью, стучит косачём по грязноватой глыбе «лизунца», утащенного бабкой из коровника, намолачивает горсть соли, присыпает свеженачищенную рыбу, потом натирает руками брюшину и голову изнутри, споласкивает покрытые саднящими цыпками руки и все повторяется сначала.
Лицо, волосы, руки и всё вокруг облеплены клейкими чешуйками. Они сохнут под солнцем и начинают дико чесаться. Рядом с колодой растёт куча чешуи, майское солнце ползёт в зенит, постепенно заливая все подворье физически невыносимым светом. От него начинают нестерпимо сиять чешуя рыб и темно-зеленые брюшки мух, облепливающих слизистые отходы рыбы, ведро, мешки и стены амбара.
Старшая сестра никак не шла из школы и она всё больше и больше уставала. Каждая новая рыба из крапивного мешка казалась ей всё неповоротливее и сопливее, а самодельный косач всё тяжелее и неподъёмнее. Она попыталась отодвинуть колоду ближе к амбару, где пока ещё была хоть какая-то тень, но для шестилетки сдвинуть край березового пня — непосильная задача. Она окончательно устаёт, садиться на корточки и задумчиво обирает чешую присохшую к растрёпанными волосам, лицу, рукам и обшлагам кофточки.
«Девочка! Девочка!» — вдруг слышит она голос откуда-то из щели между доской калитки и воротным столбом. — «Девочка! Девочка! Тебя же Лена зовут?» — Голос женский, незнакомый, не местный. — «Да…» — опасливо отвечает она, — «Хочешь куколку?» — «Да…» — «Держи!» — Под калитку подсовывается маленькая, размером с палец, свернутая из тряпиц, куколка. У нее круглая красная голова, покрытая узорным платком, черный жакет и цветастая ситцевая юбка в пол. Девочка опасливо берет фигурку. Куколка кажется ей прекрасней всего на свете. Она прижимает ее обеими руками к кофточке на груди и её сердце замирает как птичка от предвкушения игры. Главное — не показывать сокровище старшей сестре! Та непременно отберёт Машеньку (за секунду она успела дать ей имя), испачкает и зальёт самодельными чернилами, как сделал с новой кофточкой, пошитой бабушкой из дедового тёплого белья, которое он привёз из германского плена.
«Нравится куколка?» — «Да…» — «А у меня ей в пару ещё мальчик есть. Брат…» — Леночка представила не одну Машеньку, а ещё и её брата, Алешу. И на душе от чего-то стало так тепло, что её переполнил какой-то восторженный свет, — «Но за ним идти далеко, а я устала…» — «Малинино?» — в шесть лет все её познания об окружавшем мире заканчивались где-то недалеко, в больнице, куда она попала в два года, — «В Малинино… А я устала. И есть хочу.» — Девочка замирает, вспоминая все что есть съестного в доме. Ничего нет. Все наперечет. Вечером, когда домой с фермы пойдет мама, они с сестрой побегут наперегонки её встречать за околицу. И та непременно вытащит откуда-то из складок юбки помятую фляжку с молоком и завёрнутую в тряпицу краюху казенного серого хлеба, оставшуюся от «бригадного обеда». Молоко надо выпить, попеременно отхлебывая с сестрой из пахнущего металлом и коровьей шерстью винтового горлышка, а разломанную пополам краюху съесть до последней крошки о первых домов села. Так как по словам старого дедушки: «То что за околицей — то не краденное, а Богом даденное.»
Некоторое время в Леночке борется желание впустить во двор добрую женщину, чтобы та помогла ей отвалить крышку погреба, в котором стоят две кадки посоленной за лето рыбы или самой попробовать отворить в сенках холодную кладовку старого дедушки в которой висят под потолком вяленые на зиму язи. Но она вспоминает строгий наказ матери никого не пускать в дом. За последние три военные года в село сослали много странно говорящих и выглядевших людей. Они не знали деревенского труда, не умели управляться с огородами, топить печи и именно на них грешили, когда в доме или на подворье пропадали припасы, а куры от чего-то переставали нести в привычные места яйца. «Ссыльники яйца покрали! Тьфу!» — плевались бабы и мужики.
К тому-же в углу холодной кладовки деда, на специальной полочке, висел самый настоящий Бог. В темно-зеленом одеянии (старый дед называл его «оливовым») из двух перекрещивающихся полос с крестами. Бог поднимал вверх два перста и Леночка старалась заходить к деду так, чтобы строгий взгляд Бога прикрывал какой нибудь вяленый карась из связок рыб, висевших под потолком. Бог сразу бы заметил покражу и доложил деду имя виновного. От этого становилось страшно.
Её мысли панически бегают по подворью, в то время как тёплая и мягкая Машенька начинает плакать в руках о брате Алёшеньке, оставшемся в далёком Малинино. Чем сильнее и заливистее она плачет, тем быстрее крутиться вихрь, и стучит в висках напеченной солнцем головы — «Отдать… отдать… отдать!» Опять возвращаться к ненавистной рыбе, колоде, косарю. И тут в её голове вспыхивает спасительное решение. — «Рыба!» — Её не видел Бог, мама вряд ли её посчитала, кадка почти полна и если почистить всю, то крышка не закроется, надо будет тащить на неё тяжелённый обломок жернова, чтобы придавить лезущую наружу рыбу, караси под гнетом сплющатся, рассол потечет наружу, налетят мухи и опять её будут ругать за то что кадка мокрая и она её не обмыла. Леночка бросилась к мешку, посадила Машеньку на чурбачок рядом с колодой, вытащила из крапивах листьев большого карася и побежала к воротам. По дороге оглянулась — как Машенька хорошо смотрится в своём цветастом платке! Подбежала и сунула рыбину под калитку. — «На!»
Незнакомка подхватила с той стороны двери рыбу за жабры. В земляной пыли мелькнул хвост и исчез, — «Спасибо тебе, Леночка! А котику моему ещё одну рыбку не дашь? А то он у меня тоже голодный!» — девочка ещё раз метнулась к мешку. Машенька сидела на месте и уже не плакала. Вторая рыба исчезла под воротами. — «А вы когда Алешеньку привезёте?» — «Алёшеньку?» — «Брата Машеньки!» — «Путь не близкий… Неделю туда, неделю обратно… Котика надо покормить и полечить. Он у меня старенький. Через месяц принесу…» — Леночка знала что такое «месяц» в небе. Наверное, надо будет смотреть в небо и ждать, пока там не появится тоненький светящийся серп. Тогда в ворота стукнет тётенька и протянет ей на ладони маленького мальчика. Он церемонно раскланяется и кинется обниматься к сестре, с которой давно не виделись. Машенька усадит Алёшеньку за стол, кормить блинами, а он будет обстоятельно рассказывать что случилось за месяц в Малинино, кто умер, кто вернулся инвалидом, в какой дом принесли «похоронку», где задрались дети «ссыльников» татар и эстонцев.
«До свиданья, Леночка! Пойду домой, в Малинино. Спасибо а рыбку и от меня и от котика!» — «И от Алёшеньки!» — она уже представила, как братец садится за стол из коробка спичек, между солонкой и ложкой, а добрая тётенька наливает ему в маленькую тарелочку ухи и рассказывает, что рыба — подарок от Лены из Вознесенки, где теперь живет его сестра. Что дом у неё крепкий, найти его можно сразу, по палисаднику крашенному зеленой краской и кустам цветущей сирени. В доме много рыбы, строгий дедушка и вредная старшая сестра, которой лучше не попадаться на глаза, так как она непременно испачкает или порвёт ему рубашку. Алёша поест, отложит маленькую ложку и они вместе пойдут смотреть как здоровье у хворающего котика. Обсудят, не стоит ли намазать дёгтем драные раны от соседских котов, а потом пойдут собирать «приданое» в дорогу: еще одну рубашку, маленький поясок и непременно кепочку. Всё это увяжут в узелок из лоскутка и поставят на окно, рядом с горшком в котором растут малиновые «петушки», чтобы утром не забыть в дорогу.
Леночка стояла и ткнувшись носом в калитку пыталась рассмотреть в щель меду досками, не мелькнёт ли еще раз спина не по деревенски одетой тётеньки с переброшенным через плечо зеленым противогазным мешком, который оттягивали два тяжелённых дедовых карася. Она живо представила её путь по деревне: налево, по главной улице, потом направо, в проулок, карабкавшийся на горку и заканчивавшийся аккурат у почти вросшего в землю мазаного глиной с кизяком домика-горбуна, потом — опять направо и вверх, на прибрежный холм, где крутила крыльями ветряная мельница, потом вбок и вниз к заливу-старице, мимо мостков для полоскания белья и еще чуть дальше, к выдававшемуся в реку Омку помосту парома, у которого кто-то непременно уже стоял и ждал, пока паромщик на том берегу не сочтёт, что его усилий и пассажиров на том берегу реки достанет, чтобы погнать через реку паром не делая «пустого конца». Если с противоположного берега будут ехать простые люди, они непременно ухватятся за тягловый канат чтобы быстрее протянуть паром от берега до берега. А вот если «Уполномоченный» с толстым кожаным портфелем, то он будет стоять всю дорогу, курить и плевать в воду, в то время как паромщик будет перехватывая руками тянуть паром поперёк реки.
«Хоть бы не уполномоченный»! Хоть бы не уполномоченный!» — загадывала девочка, ведь если будут простые люди, они помогут паромщику быстрее доплыть до нашего берега. А если ещё и грузовичок-полуторка на ту сторону, то добрая тётенька расскажет шофёру, что девочка и её кукла Машенька очень ждут Алёшу. И водитель непременно согласиться подбросить её до Малинино побыстрее. И ей не придётся хромая карабкаться на крутую Малининскую гору по горячей пыльной дороге. «Хоть бы шофёр! Хоть бы шофёр!»
От мыслей о дороге её отвлёк запах рыбы. Машенька сидела на чурбачке, в а в мешке оставалось ещё две рыбины. Сначала девочка хотела оставить их противной Зойке: пусть после школы хоть что-то сделает. А она пока покормит Машеньку и покажет ей двор. Но потом она представила, как сестра схватится за живот, скажет, что ей надо полежать и только после этого она почистит рыбу. Потом она будет делать уроки, «готовится к экзамену», а потом рыба на горячем солнце затухнет, её надо будет срочно подготовить, промыть и засолить чтобы не наказали. А накажут непременно Леночку, ведь она была весь день дома и «ничего не делала!» Она будет уже по-темну скрести и солить рыбу, а Зойка непременно убежит встречать маму одна, выпьет все молоко и съест целую горбушку хлеба.
Поэтому девочка решительно взяла в руку нож, вытащила из мешка рыбу и начала её скрести, попутно объясняя внимательно слушавшейся Машеньке, как надо держать нож, мыть рыбью голову от сгустков крови жабр, сколько соли надо натолочь на слой и как натирать рыбье брюхо изнутри. И за разговором работа пошла веселее. К тому же Машенька оказалась хорошим собеседником. Вовремя вставляла правильные вопросы, где надо — молчала или смеялась Леночкиным шуткам и присловцам запомненным от деда.
Две рыбы — не четыре. Работа закончилась еще до того, как старшая сестра распахнула дверь вернувшись из школы. Леночка специально села играть с Машенькой за столом у окна горницы и вовремя заметила, как Зоя, с недовольным лицом еле волочит ноги по тёплой дорожной пыли, готовясь переступив порог заныть про боль в животе, голове и ещё Бог знает где лишь бы не чистить рыбу. И успел спрятать куколку в карман фартука ещё о того, как сестра войдёт в дом.
В это раз ни Бог, ни мама рыбу не посчитали. Молоко было выпито, краюха — съедена. Они шли с околицы домой. Девочка держала кулачок в кармане фартука, а в кулачке — Машеньку. Рядом, в кармашке, лежал небольшой недоеденный кусочек на ужин новой подружке. Над селом висела большая, круглая Луна. «Значит ещё не месяц», — решила Леночка и безмятежно заснула на палатях, под рассказ старого дедушки о том как их везли из плена через неопрятные «Босфор и Дарданеллы».
Утром она пытала деда когда будет это самый «месяц». Дед что-то чертил перед собой щепкой, отрезая от нарисованного по пыли круглого блина «откусы». Единственное, что она поняла, что месяц — это время, а наступит оно тогда, когда Луна постепенно сойдёт на нет, а потом постепенно отрастет до того-же вида, что и в день начала отсчета дней.
Теперь все стало понятно. Она вспомнила форму и свет Луны вчера вечером и решила теперь очень внимательно смотреть, как она меняется, отсчитывая оставшиеся до прихода Алёшеньки дни.
На следующую ночь Луна почти не поменялась. Леночка решила, что старый дед над ней пошутил. Потом было несколько дней дождей, когда Луны не было видно вовсе. а когда распогодилось, девочка, к своей радости, увидела, половинку обычного лунного «блина» и поняла, что дед не шутил и вот-вот накатит та же радость, что захлестнула её от тёплого тельца Машеньки в руке.
Дед что-то пробубнил утром про «конец нереста», собрал нехитрые пожитки и ушёл пешком на озеро Яркуль.
Через несколько дней поутру девочка услышала удары топора: мать «порола» брюшины свежим рыбам. Удары стихли, позвякал носик рукомойника. Мама зашла в комнату. От неё пахнуло озерной тиной и свежей рыбьей кровью. Она больно пихнула пальцем в бок Леночки: «Девчонки! Вам задание: рыбу оскрести и засолить до вечера! Кадку я у амбара поставила!». Потом вынула из печи чугунок с печёной с вечера картошкой, закинула пару картофелин в узелок. Оторвала от висевшего на стене «численника» лист с датой весны, шевеля губами несколько раз осмотрела его со всех сторон, шевеля губами прочитала по складам отпечатанное и только потом свернула лист в фунтик, взяла с полки банку с солью, насыпала пару щепотей, закрыла и ушла на ферму.
Как только стукнули ворота, Зойка оттолкнула сестру с дороги, первой спрыгнула вниз и как была побежала к печи.
Достала, разломила ещё тёплую большую картофелину, плеснула прямо на столешницу рыжикового масла из бутылки, присыпала солью из стоявшей рядом солонки и стала жадно есть, стирая масляную лужицу картофельным куском. Леночка стояла рядом, и едва доставая о стола смотрела на это безобразие из масла, соли и крошеной картошки, разворачивающееся прямо на уровне глаз.
«Захочешь есть — долижешь!» — Зойка сочно рыгнула и полезла обратно на полати, досыпать. Леночка некоторое время постояла внизу, подтащила табурет, но залезть так и не смогла. Зойка раскинулась широко, на её попытки подпрыгнуть не реагировала и ей пришлось одеться, подтянуть табурет к печи, наполовину залезть в зево и перемазавшись в копоти выбрать одну из трёх оставшихся картофелин.
Зойка выспалась и ушла в школу, а она осталась наедине со своими мыслями и мешком потрошеной рыбы, по которому на жаре уже начинали ползать и тыкать своими носиками большие, блестящие зеленые мухи.
Привычная работа, обычный день.
Вдруг, через треск сдираемой с крася чешуи она услышала как кто-то скребёт ногтями по доскам ворот и что-то тихо шепчет. В щели было видно тень от стоящего у калитки. Обычно соседи бесцеремонно дергали сыромятный ремешок нехитрого запора дверцы и с грохотом вваливались во двор. Бригадир, председатель или почтальонша кричали из-за ворот, вызывая маму или строго деда по «казенной» надобности, а тут за воротами стоял чужой. Девочка вытерла руку о передник, сунула руку в кармашек, в котором спала Машенька и крепко сжав в кулачке косарь подошла к воротам. «Леночка! Леночка!» — тихо, почти в громкость поскребывания повторял незнакомей ей голос. Она даже не могла различить, мужской он или женский. «Леночка! Леночка! Я тебе привет принёс!» — «Из Малинино?» — «Да, да! Из Малинино!» — «От тетеньки? Как котик — выздоровел?» — «Болеет ещё… На лапки не встаёт!» — «Вы Алёшеньку принесли?» — «Алёшенька с котиком остался, когда мама на работу уходит, он за ним ухаживает.» — «А когда он к сестрёнке придет?» — «Котик поправится и сразу к тебе!» — «Рыбки ему от меня передайте, чтобы он быстрее поправился!»
Леночка побежала к мешку, обжигаясь о крапиву вытащила две самые большие рыбины и потащила хвостами по земле к воротам. Одна за другой они исчезли под калиткой, ловко вытянутые невидим собеседником. «Привет от меня передавайте! Скажите что всё хорошо, Машенька здорова, ждёт Алёшеньку через месяц, как договаривались. Котику тоже привет и скорейшего выздоровления!» — «Непременно передам, спасибо тебе. Какая ты добрая девочка! Только кому не говори, что я приходил, а то мамка узнаёт и ругать будет, что с чужими говоришь рыбу раздаешь!» — «Конечно не скажу, а то знает как меня накажут! И Машеньку отберут, Зойке отдадут или обще сожгут, чтобы у чужих не брала!» — «До свиданья, Леночка!» — «До свиданья!…» — Девочка споткнулась, — «А как вас зовут?» — но дяденька её уже не слышал. Она побежала в горницу, чтобы рассмотреть его лучше высунувшись из окна выходящего в уличный палисадник, но росшая забора сирень разрослась так, что закрывала почти весь дальний вид на улицу, оставляя только небольшой просвет рядом с калиткой.
Потом она вернулась к своей обычной работе. Нехитрым умом она поняла, что её «задание» на сегодня стало меньше на две здоровенных, скользких рыбы, которых дед называл «поросями».
Внутри немного щекотало от опасения, что мама рыб сочла, прийдет с работы, откроет засолочную кадку и схватиться за крапивный куст или прут.
От этого становилось неприятно в животе и прихватывало ноги.
Но вернувшись с фермы мама ничего не заметила. Она с трудом, крутя и переваливая с бока на бок кадку, подкатила её к крышке уличного погреба. У Леночки ёкнуло сердечко, когда мама открыла круглую, деревянную крышку бочонка, но та положила её на стоявшее рядом корыто, ушла на задний двор, вернулась с охапкой крапивы, порубила сечкой в корыте жгучие, жесткие крапивные прутья, которые от чего-то её не жгли, и заполнила обрубками пустое место между рыбой и крышкой. Накинула на солонину старый кусок брезента. «Ленка, дед появится — скажи, чтобы кадку в погреб опустил! У меня сил нет…»
Шли дни. И как-то получалось, что как только дед ночью приносил мешок с рыбой, мама рубила её топором, Зойка куда-то исчезала, а девочка выполняла «задние», непременно кто-то появлялся «с приветом» из «Малинино, от Алёшеньки», и Леночка подсовывала под калиточную дверь рыбу. Она уже не спрашивала о здоровье котика, когда приедет Алёшенька, а просто раздавала рыб каждому, кто попросит. Чтобы она быстрее кончилась в ненавистном мешке, её похвалили за помощь и доброту и можно было подольше посидеть под дворовым окном, на завалинке, поговорить с Машенькой о тяжелой жизни и о том как с фронта приедет папка, от которого она помнила только запах махорки-самосада и привезёт гостинцы. Может он её полюбит, даже такой страшной, и даст конфету. Дедушка её тоже любил и давал колотого сахара, которым его «премировали» за рыбу в колхозе. Но сахар будет только осенью. Она вспомнила, как прошлый раз старый дедушка доставал из торбы узелок с глухо стучавшими белыми камнями сахара, клал их на левую ладонь и с силой бил обухом своего рыбацкого ножа, стараясь чтобы колотые куски не вылетели из зажимавшей их здоровенной, как лопата, ладони. Но кусочки всё равно разлетались сквозь пальцы, скакали на пол и они с сестрой кидались за горевшими в полосах солнечного света белыми крупинками, стараясь заметить самые большие и опередить друг друга в охоте за ними. Дед смеялся, глядя на их прыжки, а потом давал каждой по твёрдому, сладкому куску, стараясь не обидеть внучек. Аккуратно встряхивал ладоши над газеткой, а Леночка упрашивала его лизнуть сладкие от сахара ладони. иногда под детский язычок попадалась твёрдая крошка приставшего к сладкой руке самосада и Леночка закусив её ощущала Дед протягивал ей руку, она подбегала, тыкалась губами в ладонь, а дед ловко хватал её за носик и нежно тряс голову: «Вот так, Ленка, лиса и попадает в капкан!»
Я знал, что рыба была проклятием её детства. А единственная похвала — от посторонних и незнакомых людей, сговорившихся обманом выманивать у маленькой девочки рыбу, спасавшую семью в голодные годы войны.
